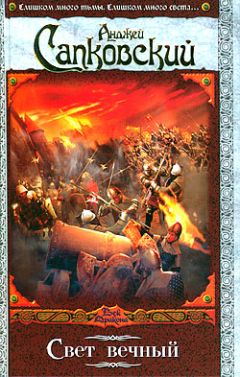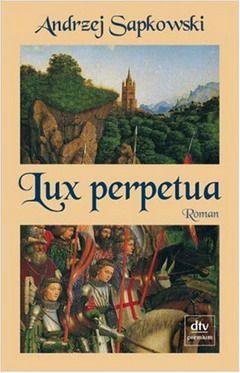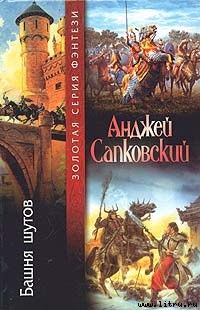Анджей Сапковский - Божьи воины [Башня шутов. Божьи воины. Свет вечный]
– Сразу после дефенестрации[44], – не побоялся докончить бургомистр. – И это явно доказывает, что с гуситской, стал-быть, ересью его ничто не связывает.
– Ничто не связывает, – спокойно подтвердил злотник Фридман. – Я хорошо знаю это от сына, который в то время тоже обучался в Праге.
– Прекрасно получилось, – добавил бургомистр Захс, – что Рейневан вернулся в Силезию, и еще лучше, что к нам, в Олесьницу, а не в Зембицкое княжество, где его брат рыцарски служит князю Яну. Это хороший, разумный, хоть и молодой парень, а в траволечении столь умелый, что таких еще поискать. Жене моей чирьяки, которые у нее, стал-быть, там, ну, на теле появились, вылечил, а дочку от постоянного кашля освободил. Мне для глаз, которые слезились, дал отвар. Прошло, как рукой сняло…
Бургомистр замолк, закашлялся, засунул руки в обшитые мехом рукава делии. Ян Гофрихтер быстро глянул на него и заявил:
– Таким образом, наконец-то у меня посветлело в голове. Я имею в виду Рейневана. Теперь я знаю все. Хоть и незаконнорожденный, но кровь пястовская. Сын епископский. Любимец князей. Родственник Ностицей. Племянник схоластика вроцлавской колегиаты. Сыновьям богатеев – товарищ по учебе. К тому же, будто всего этого мало, успешно практикующий медик, чуть ли не чудотворец, ухитрившийся заработать благорасположение власть имущих. А от чего же это он вылечил вас, преподобный отец Якуб? От какого, любопытствую, недуга?
– Недуги, – холодно ответил плебан, – не тема для обсуждения. Так что скажу без подробностей: вылечил.
– Такого человека, – добавил бургомистр, – нельзя травить. Жаль, если такой погибнет от кровной мести только потому, что однажды забылся, очарованный парой прекрасных, стал-быть, глазок. Так пусть же продолжает служить обществу. Пусть лечит, коли умеет…
– Даже, – фыркнул Гофрихтер, – используя пентаграмму на полу?
– Ежели это лечит, – серьезно сказал Галль, – ежели помогает, ежели успокаивает боль, то даже. Такие способности – дар Божий. Господь одаряет ими по своей воле и по ему одному известному намерению. Spiritus flat, ubi vult[45]. Пути Господни неисповедимы.
– Аминь, – подсуммировал бургомистр.
– Короче говоря, – не сдавался Гофрихтер, – такой человек, как Рейневан, виновным быть не может? Об этом речь? Э?
– Кто невинен, – ответствовал с каменным лицом Якуб Галль, – пусть первым бросит камень. А Бог всех нас рассудит.
Некоторое время стояла тишина, настолько глубокая, что слышен был шелест крыльев ночных бабочек, бьющихся в окна. Со Свентоянской улицы донесся протяжный и певучий голос городского стражника.
– Итак, подводим итог. – Бургомистр выпрямился за столом так, что уперся в него животом. – Балаган в граде нашем Олесьнице устроили братья Стерчи. В материальном уроне и телесных повреждениях, возникших на рынке, виноваты Стерчи. В потере здоровья и, не приведи Господи, смерти его преподобия приора Штайнкеллера виноваты братья Стерчи. Они, и только они. Случившееся с Никласом фон Стерча было, стал-быть, прискорбной случайностью. Так я и изображу события князю, когда он вернется. Все согласны?
– Согласны.
– Consensus omnium[46].
– Concordi voce[47].
– А если Рейневан где-нибудь объявится, – добавил после минутного молчания плебан Галль, – то я советую господам тихо изловить его и запереть. Здесь, в карцере нашей ратуши. Ради его же собственной безопасности. Пока все не уляжется.
– Хорошо бы, – добавил Лукас Фридман, рассматривая перстни, – сделать это побыстрее. Прежде чем обо всем узнает Таммо Стерча.
Выходя из ратуши прямо во мрак улицы Светоянской, купец Гофрихтер уголком глаза уловил движение на освещенной луной стене башни – передвигающийся нечеткий силуэт немного пониже окон городского трубача, но повыше окон комнаты, в которой только что окончился совет. Взглянул, заслонив глаза от мешавшего видеть света фонаря, который нес слуга. «Какого черта, – подумал он и тут же перекрестился. – Что это там лазит по стенам? Филин? Сова? Летучая мышь? А может…»
Гофрихтер вздрогнул, перекрестился снова, по самые уши натянул куний колпак, закутался в шубу и прытко двинулся в сторону своего дома.
Поэтому так и не увидел, как большой стенолаз[48] распростер крылья, спустился, спорхнув с парапета, и беззвучно, словно дух, будто ночной призрак, понесся над крышами города.
Апечко Стерча, живший на Ледней, не любил бывать в замке Штерендорф. Причина была одна, к тому же простая: Штерендорф принадлежал Таммо фон Стерче, главе, сеньору и патриарху рода. Либо, как говорили некоторые, тирану, деспоту и мучителю.
В комнате было душно. И мрачно. Таммо фон Стерча не позволял раскрывать окон, опасаясь, как бы его не продуло, ставни тоже открывать не разрешалось, потому что свет резал глаза калеки.
Апечко был голоден. И запылен. Но некогда было ни поесть, ни почиститься. Старый Стерча не любил ждать. И не привык потчевать гостей. Особенно – родственников.
Поэтому Апечке оставалось только глотать слюну, чтобы смочить горло – выпить ему, естественно, тоже не подали, – и сейчас он излагал Таммо олесьненские события. Делал он это неохотно, но ничего не попишешь – надо. Калека – не калека, паралитик – не паралитик, но Таммо был главой рода. Сеньором, не спускавшим непослушания.
Старик слушал сообщение, устроившись на стуле в присущей ему невероятно перекошенной позе. «Старый покорёженный хрыч, – подумал Апечко. – Холерное изломанное пугало».
Причины состояния, в котором пребывал патриарх рода Стерчей, были известны не до конца и не всем. Согласие царило только в одном – Таммо хватил удар, когда он не в меру рассвирепел. Одни утверждали, якобы старец взбесился, узнав, что его личный враг ненавистный вроцлавский князь Конрад получил церковное епископское посвящение и стал наимогущественнейшей личностью Силезии. Другие уверяли, будто трагическую вспышку вызвала невестка Анна из Погожелья, пережарившая Таммо его любимое блюдо – гречневую кашу со шкварками. Как там случилось «в натуре», неизвестно, однако результат был, как говорится, налицо, и не заметить его было невозможно. После произошедшего Стерча мог шевелить – впрочем, очень неуклюже, – только левой рукой и левой ногой. Правое веко было всегда опущено, из-под левого, которое ему иногда удавалось приподнять, порой пробивались слизистые слезы, а из уголка перекошенного в кошмарной гримасе рта текла слюна. Несчастье привело также к почти полной утрате речи, откуда и пошло прозвище старика – Хрипач.
Однако потеря способности говорить не повлекла за собой – на что рассчитывала вся родня – потери контакта с миром. О нет. Владелец Штерендорфа по-прежнему держал род в узде и был пугалом для всех, а то, что хотел сказать, говорил, так как всегда на подхвате у него был кто-нибудь из тех, кто ухитрялся понять и переложить на человеческий язык его бульканья, храпы, гундосенье и крики. Этим кем-то, как правило, был ребенок – один из многочисленных внучат либо правнучат Хрипача.